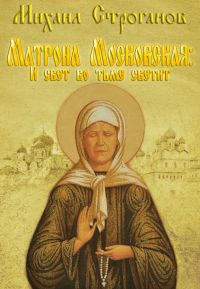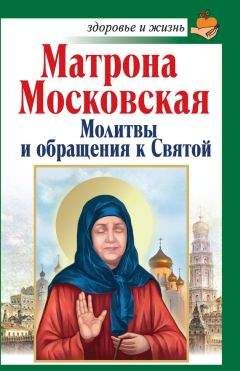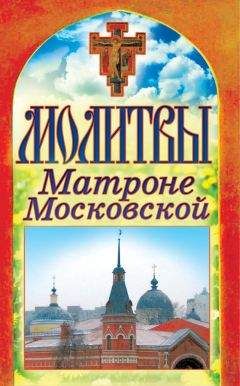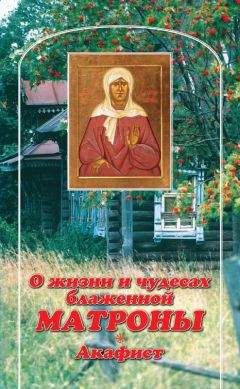С. С. Аверинцев - С. С. Аверинцев Поэты
Во–вторых, я солгал бы, если бы утаил чувство отчуждения, с которым сам уже воспринимаю свои прежние работы (применительно к этой книге — все, за вычетом совсем недавно написанного опыта о Мандельштаме). «Как души смотрят с высоты на ими брошенное тело…» Это относится в основном к тону статей; если бы у меня радикально переменилась позиция в вопросах содержательных, я не счел бы себя вправе заново публиковать старое, а вместо этого сел бы готовить, по назидательному примеру Блаженного Августина, «ретрактации» — исправление допущенных в прошлом ошибок. Нет, думаю я о сюжетах и персонажах этой книги в общем то же самое; но вот говорить, мне кажется, стал бы по–другому — с большей боязнью красивости, посуше, порезче, но и поосмотрительнее.
Надо полагать, это отчасти возраст. «Лета к суровой прозе клонят», и уже не тянет распеться так рапсодично, как в молодости. Метафоры метафорами, портретный подход — портретным подходом, но опыт, и научный, и человеческий, отягощает каждое остающееся в силе утверждение слишком большим бременем молчаливых оговорок, чтобы позволять себе прежние аллюры. Возьмем хоть того же Клеменса Брентано; я продолжаю любить его стихи, но мне уже самому не совсем понятна та несколько горячечная влюбленность, которую они у меня вызывали и которая сказалась в стилистике моих рассуждений о нем.
Важнее, однако, другое. Изменился не только мой биографический возраст; изменился возраст времени. Слова наши звучат в воздухе уже не совсем так, как звучали. Читатель, умеющий слышать этот призвук, уловит в большинстве предлагаемых ему опытов специфическую акустику поры, которой больше нет. Той самой, к которой относятся строки Бахыта Кенжеева:
Вот и проходит эпоха Тайной свободы твоей…
«Тайная свобода» — не нужно быть очень догадливым, чтобы предположить за этим пушкинско–блоковским словосочетанием чистую иллюзию, порождаемую механизмом психологической компенсации. Дескать, с тоски и не то выдумаешь. Такто оно так; но иллюзия эта, во всяком случае, реальнее, чем противостоящая ей реальность, которая притворяется такой устойчивой, такой безысходно–тяжеловесной, пока ей не приходит время в одночасье рассыпаться.
Те десятилетия нашей истории, которые на наших глазах уступают место какому–то новому циклу, нечаянно породили единственный в своем роде феномен. Мандельштам среди оторопи 30–х годов дал ему имя, точное, как диагноз: «тоска по мировой культуре». Он же выразился менее диагностически и более художественно, когда назвал стихи, «написанные без предварительного дозволения», то есть попросту настоящие, — ворованным воздухом. В этих двух формулах сказано чрезвычайно много; они словно бы начертаны как эпиграфы над всем бытием той формации русского интеллигента, к которой принадлежу и я.
На веку тех, кто был старше меня, почти вовсе смолкло слово — но как же много для них означала музыка! Ворованный воздух мировой культуры — ни больше, ни меньше. Когда они шли слушать великих пианистов той поры, вопрос стоял не об эстетическом наслаждении, а о возможности жить. Девушка, в середине пятидесятых вернувшаяся из лагерей в Москву, еще не зная, под каким кровом найдет приют на ночь и как будет перебиваться, жадно останавливалась на улице перед консерваторскими афишами; будь это вымысел, его можно было бы счесть чересчур сердцещипательным, — но это не вымысел.
К нам, тогда двадцатилетним, с конца тех же 50–х стала приходить поэзия: «Воронежские тетради» Мандельштама, поэмы Цветаевой, поздняя Ахматова — не книги, а запретная машинопись. Термина «самиздат» еще не было. А инстинкт велел держать побольше в голове — это самое надежное место хранения. Теперь, наверное, переведутся люди, способные часами читать друг другу стихи наизусть; ведь во всем свете такого нет, только у нас покамест есть.
Прошу понять меня правильно: мои слова — не ностальгический вздох об уходящем. Боже сохрани! Когда поэзия получает непомерный авторитет и обременяется не свойственными ей функциями, это ведь не от хорошей жизни. Тот же Мандельштам горько иронизировал над людьми, которые в том высоком экстазе, в каком древние спартанцы с песнями Тиртея шли в битву, со стихами Пастернака идут… в концерт: «Поколение, которое ничего не совершит». И был, в общем, прав. Тут ничего не попишешь — поэзия может не больше, хотя и не меньше того, что она может: это ворованный воздух, позволяющий дышать, а не задохнуться сарказмом, — однако ей не заменить ни духовного учительства, ни философского познания, ни, наконец, гражданского действия.
В 60–е и 70–е мы жили, например, со стихами Цветаевой. Отвечая на одну анкету, я сказал тогда, конечно, не за одного себя, что она для нас — своя. А ведь так отчетливо видно на ее примере, какую духовную опасность даже для самой большой поэзии представляет внушенный романтизмом порыв быть не поэзией, а Всем. Самозамкнутость возведенного в абсолют лирического импульса; голос, окликающий и людей, и Бога, но совершенно безразличный к тому, что со своей стороны имеют сказать и люди, и Бог. Что же, я знал это, если меня не обманывает память, и десять, и пятнадцать, и двадцать лет тому назад; однако тогда все прощали ей охотно и безоговорочно. Поэзии прощалось все, укоризненные вопросы к ней откладывались самое малое до следующей исторической эпохи. Энергетический кризис, постигший жизнь вокруг нас, не оставлял таким людям, как я, возможности быть особенно разборчивыми относительно разрядов лирической энергии, которые та же Цветаева дарит так щедро. И то сказать, если в поэзии соблазнов немало, то больше греха, наверное, в жалости к себе как «жертвам истории». Греха столь же тривиального, как и невеселого. Поэзия — противоядие против жалости к себе, это надо за ней признать (с оговоркой, что есть противоядия более святые и более чистые).
Удача моя в том, что мне было кому всю жизнь читать стихи вслух и по памяти — моим друзьям, и прежде всего моей жене, с которой уже за тридцать лет без малого совместно пережита каждая любимая строчка, включая те, что приводятся в этой книге. Расслышана через резонанс ее внимания.
Со стыдом говорю — рядом со святыми муками тех, кто в те годы всерьез муки принимал; но ведь и рядом с куда менее святым унынием прочих, — мы жили неуместно, несообразно весело. У нас это называлось: «нарушать общественное неприличие». На холоду мы грелись у огня живых слов, веселясь каждому язычку пламени. Нет, мы не были жертвами истории. Липкий страх, пронзительный стыд, бессильное бешенство — этого хватало; но вот уныния, той мировой тошноты, что сменила в нашем веке байроническую мировую скорбь прошлого века, — чего не было, того не было. Совсем не было. Тайная свобода — она и есть тайная свобода. И к каждому поэту былых времен можно было обращать ту мольбу, которую Блок обратил к Пушкину:
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Это я пытаюсь объяснить некоторые эксцессы моего слога, мои признания поэтам в любви — не без сентиментальности, не без педалирования. Сам вижу, но переделать не могу, могу лишь написать заново. Как быть, когда история литературы — не просто предмет познания, но одновременно шанс дышать «большим временем», вместо того чтобы задыхаться в малом, жить в Божьем мире, а не в «условиях эпохи застоя»?
Как быть, когда естественное свечение стихов дополнительно подсвечено чернотою фона?
Кроме всего прочего, я ведь чаще всего выбирал темы, у нас обойденные. Даже Германа Гессе, когда я начинал им заниматься, вокруг не знали. Когда «Игра в бисер» была в первый раз переведена, в издательстве беспокоились: кто у нас будет такое читать? Это чуть позже, к концу шестидесятых, Касталия овладела воображением структуралистски ориентированной публики. Когда меня потянуло на Вячеслава Иванова, не одни ревнители социалистического реализма давно успокоились на том, что его поэзия навсегда похоронена. Клеменса Брентано сами немцы как следует оценили только сейчас, а у нас он и до сих пор мало известен. Полноту смысла, которую имеет в контексте западноевропейской традиции наследие Вергилия, из русских оценили разве что Георгий Федотов и тот же Вячеслав Иванов, да и то в эмиграции. Чувство, что я ломлюсь в двери, отнюдь не раскрытые, даже неотпертые, прибавляло мне азарта и душевного жара.
И так часто приходилось ощущать себя в затаившемся и страстном сговоре — и с автором, о котором, и с читателем, для которого я писал. В заговоре против законов вероятия, означаемых советом: «Не пытайся — у нас это не пройдет». Героизма тут, конечно, нет; но фрондерством называть мое поведение я тоже не соглашусь. Это просто биологически нормальное поведение. Поведение живого в отличие от неживого.
И, конечно, «тоска по мировой культуре». Раззадоривающее чувство насильственной отторгнутости, которую необходимо преодолеть. В том числе и отторгнутости географической. Едва ли я так старался бы расписывать в статье про Гессе городок Кальв, если бы не имел оснований полагать, что мне суждено до скончания века лицезреть его только на фотографии в упомянутом альбоме Бернгарда Целлера, а читатель мой не увидит его ни в каком виде…